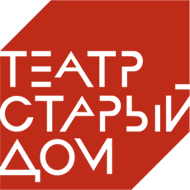На фото — сцена из спектакля «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» © Виктор Дмитриев
24-26 июня в Москве, на сцене СТИ, гастролирует «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» – второй спектакль Антона Фёдорова, выпущенный им в новосибирском «Старом доме» в статусе главрежа, – первым был «Котлован». Сложная платоновская проза переплавлялась там в непростой и отчётливо масочный театр. Взявшись за максимально простой, общеизвестный материал – «Бременских музыкантов» Василия Ливанова, Юрия Энтина и Геннадия Гладкова, — Фёдоров создал почти контрастную по форме, но родственную по смыслам постановку.
В самом названии – сразу два из нескольких «краеугольных камней» фёдоровского стиля. Во-первых, это междометие, которыми так любят изъясняться его герои. Такой речи, кстати, в этом спектакле как раз не слишком много. А во-вторых, это целый культурный код: едва ли есть на постсоветском пространстве человек старше 25 лет, который не произнесёт этот музыкальный ослиный крик в правильном ритме. И не вспомнит хиппующих на цветочном лугу принцессу в дерзком мини, трубадура в расклешённых джинсах и артистичный звериный бэнд с электроинструментами. Зеркало «иноземной» моды, ставшее частью отечественной культуры, — идеальный инструмент для познания родного, национального – через нашу любовь к присвоению чужого. Например, «русскую мечту» о Франции, выросшую из советской действительности, Фёдоров рассматривал в «Мадам Бовари». С Америкой разбирался в «Буковски» – спектакле, выпущенном в «Гоголь-центре» в середине сезона 2021-2022 и потому не получившем долгой жизни. Но отчасти продолжившемся в «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты»: ещё до начала действия в фойе зрители встречаются с Рассказчиком (Андрей Сенько). Постарше и попристойней, чем был неприкаянный герой спектакля ГЦ, этот сочинитель уже явно не американец, но полосатый халат и красная шапка – те же. Он не пьёт алкоголь, но не выпускает из рук кофейную кружку, в которую и наборматывает историю о бременских музыкантах – сперва комментируя происходящее, а потом всё больше подсказывая, диктуя развитие событий. Но это уже тогда, когда сами герои будут неспособны с этими событиями справиться. А сначала – почти что мирная картина.
За рамки сцены выходит не только Рассказчик – «остранитель» истории, делающий ударения на прилагательных, наречиях, предлогах («наши друзья», «прекрасная принцесса»). Пока не идентифицируемый Разбойник (Евгений Варава) лежит в отключке, занимая весь центральный – он же единственный – проход между ближними рядами. Ровно так когда-то в том же ГЦ лежали мужики-правдоискатели в первом антракте «Кому на Руси жить хорошо», чтобы подняться и выйти на сцену под призыв трубы. Труба есть и в «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» — и она тоже вне основного игрового пространства: в отличие от остальных участников, играющий на ней реальный музыкант сидит за зрительскими спинами. Пространство разомкнуто и герметично одновременно, это игра без конца и без края. Сама сцена сильно выдвинута вперёд, хотя место действия, как обычно у Фёдорова, постоянно, и меняется лишь в глазах героев или в их воображении. Планшет её покрыт коврами – знакомыми, советскими, и перевёртыш в этом факте очень фёдоровский: в уютном пространстве то ли игровой комнаты, то ли репбазы не «наш ковёр – цветочная поляна», а ровно наоборот. На экране в углу потрескивает анимированный костёр, слышно сверчков, музыкальные инструменты ждут своих бременских, а они пока спят в разных позах – даже стоя и прикрывшись ещё каким-то ковром. Только Трубадур (Арсений Чудецкий) болтается по сцене в отрешённом танце человека в лёгком трансе. Неважно, что сейчас изменило его сознание – любовь, музыка или химические средства. Всё едино для странного мальчика – худого, лохматого очкарика, может, и слышащего свою «музыку сфер», но существующего отдельной от остальной реальности жизнью.

На фото — сцена из спектакля «Е-ЕЕ-ЕЕ!» © Виктор Дмитриев
Во многих спектаклях Фёдорова, над которыми он сам же работал как художник («Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» – из их числа), местом действия становится дощатый или фанерный «ящик», куда помещены герои, либо условно открытый павильон. Оба варианта – «обуючивание» хаоса, мир, соединяющий «комнату» с «открытым пространством». На всякий микрокосм найдётся макрокосм – и наоборот. А преобразить одно в другое легко может изменённое сознание – и, конечно, игра, в том числе, театральная, как один из способов его достижения. Но Фёдоров постоянно напоминает: играть-то увлекательно, а вот заиграться можно не на шутку. И условно «детская» история «Бременских музыкантов» показывает это с особенно беспощадной ясностью. Тем более, что это в первую очередь история о разнице поколений, об отцах и детях, о «вчера» и «завтра», которые в «сегодня» сходятся с трудом. Впрочем, «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» и Фёдоров-режиссёр как раз о том, что «завтра» – фантом, и увлечённый им особенно быстро превращает в боль всякое «здесь и сейчас». Неслучайно так пристально всматривается режиссёр в процесс рождения утопий и их быстрое разрушение изнутри: утопия взрывает себя сама. «Котлован» и «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» в этом смысле – абсолютный диптих.
«Светает, шесть утра. / Вот и наступило то самое завтра, / О котором я что-то слышал вчера. <…> О, город – это забавное место. / Он похож на цирк, он похож на зоопарк. / Здесь свои шуты и свои святые, / Свои Оскары Уайльды, свои Жанны д’Арк» (Майк Науменко). Свой «зоопарк» просыпается на покрытой коврами сцене, выстраивается в очередь за завтраком, якобы неожиданно и не без возмущения выслушивает распределение на роли животных. Положа руку на сердце, и впрямь комично, когда ведущие актёры одного из лучших театров России, лауреаты дореформенной «Золотой Маски», главные герои того же «Котлована», Анатолий Григорьев и Тимофей Мамлин, оказываются Ослом и Петухом соответственно. Но «оказываются» они не случайно. Бременские музыканты в «Е-ЕЕ-ЕЕ!» – реально существующая в «Старом доме» музыкальная группа «Эверест 9050» (ударник Виталий Саянок играет Пса, гитарист Александр Шарафутдинов – Кота, а клавишница Наталья Пьянова – дополнительного по отношению к сказке персонажа – беременную Подругу кота). При этом история самой команды вполне «бременская»: актёры театра в пандемию решили «петь свою музыку», и для этого большинству из них пришлось осваивать инструменты в буквальном смысле с нуля. В «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» они, разумеется, играют вживую. А вот в театральном смысле как будто бы и не играют – или «играют себя», пусть очень утрированных, но не принципиально других и вовсе не «маски», сколько бы гэгов они ни произносили. Театр как инструмент познания себя работает здесь и через «простое как мычание»: драматургически, визуально и даже – на первый взгляд – актёрски этот спектакль как будто бы незамысловат (по крайней мере, для Фёдорова).

На фото — сцена из спектакля «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» © Виктор Дмитриев
Но этим он и интересен. И особенно важно, что самых молодых героев, Трубадура и Принцессу, играют действительно молодые актёры Арсений Чудецкий и Лилия Мусина – те, кто уже не «рос на „Бременских музыкантах“». У обоих в фактуре как таковой есть налёт «не-сегодняшнести». И при этом – трудно формулируемая современность во взгляде. В «Е-ЕЕ-ЕЕ!» они соединяют эту двойственность: странный мальчик и странная девочка, не желающие быть красивыми. Вот небрежность наряда Принцессы – безразмерная или мужская клетчатая рубашка, растрёпанные кудри: отрешённая, порой как будто сомнамбулически существующая, она в своей любви хочет видеть те же сны, что и её угловатый Трубадур. А что ещё делать в этой хиппи-коммуне посреди заколдованного леса (он же комната, он же театр, он же репбаза), откуда уйти невозможно? Они и не хотят уходить. Ясно, что этот иллюзорный мир был выстроен давно, Король-отец (Юрий Кораблин), как и Рассказчик, тут живут ещё со времён, так сказать, внутренней эмиграции и эскапизма первой волны. «Повозку»-фургончик, сопровождаемый комментарием Рассказчика «заморочились!», выкатывают на сцену в начале, потом он разнообразно трансформируется: герои влезают в окна, забираются на крышу, входят в двери или опираются на него снаружи. Он, конечно, уже никуда не поедет – как троллейбус из фёдоровских «Петровых в гриппе», как коляска из его «Мадам Бовари».
Вечное «ложное движение», пешее или на каком-нибудь транспорте, – знак ключевой для режиссёра (а для «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» – особенно) темы времени. По Фёдорову, всё движется по спирали: не повторяется, а возобновляется. Отчасти это напоминает миры его учителя Юрия Погребничко, но в фёдоровском варианте нет их главного элемента: ужас такой реальности в том, что время не может ни останавливаться, ни замедляться, в какие бы игры ни играла изменённая воображением действительность. Поэтому так легко, впечатляюще и, говоря по совести, страшно соединяются эпохи: в «Е-ЕЕ-ЕЕ!» налицо и конец 1960-х – время европейской и американской молодёжной культуры, начало советского застоя и появление мультфильма «Бременские музыканты», отголоски срифмовавшихся с ними 1980-х или 1990-х, когда взрослел и создавал любительскую группу сам Фёдоров, сегодняшний день… Бежать некуда, потому и равно неосуществимы заявленные в самом начале желания разных поколений: Трубадур и Принцесса хотят «быть вместе» (не имея понятия об ответе на вопрос Короля «а какие ваши дальнейшие устремления?»), бременские музыканты «хотят дальше», по их собственной формулировке, — уйти, двигаться, вообще «дальше».
Матрица сказки о контркультуре, как и сказки о строительстве изолированной утопии, проигрывается снова и снова, кто-то проживает её по новому кругу, кто-то только слышал о ней, но в беличьем колесе те и другие оказываются вместе. Так и зритель втягивается в открыто «картонный» мир игры, который даёт возможность для исследования другой принципиально важной фёдоровской темы – взаимоотношений между реальным и нереальным, подлинным и кажущимся, видимым и существующим: они взаимопроницаемы, и, руша наши ложные представления, в прорехи сквозит и просыпается мир не только неконтролируемый, но неочищенный, неструктурированный и непроартикулированный. Поэтому построенные in the middle of nowhere утопии разрушаются изнутри буквальным физическим насилием (кстати говоря, интересно – действительно интересно, как ни оценивай художественную сторону, – что именно этой теме целиком посвящён недавний фильм Алексея Нужного по «Бременским музыкантам»). Впрочем, они невозможны и потому, что утопия – конец времён, а остановить время человеческой волей, очевидно, нельзя. Но всё это было бы, перефразируя героиню Достоевского, похвальной мыслью, которую мы у того же Достоевского или Платонова читали, в спектаклях Фёдорова и «Старого дома» смотрели, если бы не одно «но», о котором, в сущности, и поставлен спектакль «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты».

На фото — сцена из спектакля «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» © Виктор Дмитриев
Социум – даже «асоциальный социум» – волен уничтожать сам себя сколько угодно, раз таков его непоправимый закон. Но отдельная сломанная им судьба, искалеченная душа – единственная и подлинная драма. О том, что в «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» хэппи-энда не будет, ясно слышно с первых мелодий: меланхолически, вполголоса, с горчинкой и интонацией утреннего пробуждения звучит «Ничего на свете лучше нету…», в лирических композициях нет былой уверенности, и по мере развития сюжета нарастает «рокерская» громкость, ритм-секция всё больше оттесняет трубу на задний план (аранжировки бессмертных хитов Геннадия Гладкова написали Сергей Шайдаков и Григорий Калинин). Обретаемая энергия – движение в пропасть, в хаос, как оно и происходит тут по сюжету: порой неожиданно для самих себя герои переходят к агрессии, и спасительное явление Трубадура обернётся окончательным кровавым «махачем», битвой всех со всеми. Это ещё одна важная линия: «кривое зеркало» американской истории музыки, жители этой коммуны позаимствовали от неё не свободу и даже не искусство (хотя «тамошняя» музыка тут тоже звучит), а универсальный закон – междоусобицу тех, кто уже противопоставил себя остальным. Разбойники во главе с застенчивой, косноязычной и по-своему очень обаятельной Атаманшей (Анастасия Белинская) тут – панки. Как оно и было в реальности, две контркультуры – панки и хиппи, – уйдя от остального общества, стали бороться друг с другом. Маргиналы, отщепенцы, «меньшинство», как известно и по мировой, и по советской истории, прекрасно способны справиться с задачей уни(что)жения себе-не-подобных. И Принцесса, увидев этот ужас, сбежит не от несвободы к любви, а от увиденного ею мира насилия – от того, что обнаружится и в её отце, и в её любимом, и в безобидных вроде бы людях и зверях. Те удивятся сами себе и будут растерянно приговаривать, что этого не хотели, пытаться придумать, «как это исправить», и немалую финальную часть пытаться «исправить» в самом деле. У них не получится.
Между прочим, создатели спектакля помнят и то, что реальная сказка братьев Гримм «Бременские музыканты» с мультфильмом связана только числом животных и их видами – да ещё разбойниками с жильём в лесу. В первоисточнике «бременские музыканты» – и не музыканты никакие, и до Бремена не дойдут, это уставшие фантазёры и эскаписты, компания смертников или обречённых на смерть, состарившихся и обессилевших, решивших, что проще быть музыкантом. И не знающие английского «звери» из спектакля обретают нечеловеческий облик – надевают гигантские головы-маски – в момент изучения «альбома с марками» (любовь к филателии тут, конечно, своеобразная). А происходит оно под “Epitaph” King Crimson – если бы герои всё-таки понимали язык, то узнали бы и о том, что значит «нам любые дороги дороги»: Confusion will be my epitaph / As I crawl, a cracked and broken path / If we make it, we can all sit back and laugh / But I fear tomorrow I’ll be crying.
Опустошённая Принцесса сама становится жестокой – единственной тут взрослой и серьёзной. И страшной в этой серьёзности, нежелании верить в сказку, в утопию, в волшебный мир. На нежное, по мере сил, пение отца «Ах ты бедная моя…» она резко и сухо отзывается: «Дальше». И совсем не трогательно произносит, не пытаясь петь и глотая слёзы – злые, отчаянные, не прощающие: «Я ничего не хочу». А в третий раз и вовсе оборвёт: «Ни … (фонограмма «запикает») я не хочу». Из глубины выжженной души она ещё попробует всерьёз сказать ближе к финалу: «Прости меня, пожалуйста». Как бы очнувшись, к ней подключатся остальные герои, начнут извиняться не только друг перед другом, но и перед зрителями, бродя между рядов и касаясь рук. Вроде бы искренний порыв и отрезвление начнёт обретать черты гротеска – уже не в первый раз в этом спектакле любимый Фёдоровым приём многократного повторения превратит произносимое в абсурд и пустоту, даже в фальшь: пятнадцатое «простите меня» – выхолощенная форма, напоминающая открыточки в соцсетях на Прощёное воскресенье. И вдруг Разбойник – тот самый, что лежал на полу, – произносит: «Простите меня, пожалуйста… но я не желаю жить по-другому». Он говорил это много раз. Свободная воля может быть и такой. Утопии не будет. И притихшие герои споют все вместе, негромко и не слишком уверенно, «Луч солнца золотого…» – единственную песню, радикально перемещённую композиционно. Туда, где ей, в общем-то, и место: гимн – по своей сути, в мультфильме она становилась «колыбельной» и структурным центром. В этом смысле всё закончится как надо – даже слишком. Только ничего не закончится. И неизвестно, хорошо ли, что «друзья не знают, какие новые приключения ждут их впереди», как завершил свою историю рассказчик. Конечно, удобнее быть нераскаявшимся разбойником. Но своеволие, как видно, отличается от свободы воли, и попробовать хотя бы не путать одно с другим – уже почти поступок. И хорошо не быть «свободным», как убитая «дичь», которую броском в проход пытался «отпустить» один из Разбойников (так же в «Котловане» пробовали поступить с мёртвой птицей). В конце концов, из провальной и болезненной истории можно извлечь хотя бы бедные уроки: «бэд-трип тоже трип», как поётся в песне ведущего актёра екатеринбургского «Коляда-театра» Олега Ягодина и группы «Курара».