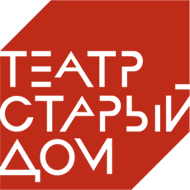Premier
В ближайшее время премьеры не запланированы!
Сидят как-то Сальери с Моцартом на рельсах… «Гравитация» продолжает знакомить нас с театральными экспериментами
10 november 2025Ольга Рахманчук Культура Новосибирска
Погружение новосибирцев в современные театральные поиски продолжил спектакль Санкт-Петербургского БДТ «Опыт драматических изучений. Моцарт и Сальери» режиссера Александры Толстошевой.
Чем смогла удивить зрителей этот многообещающий молодой режиссер, которого отличает свой собственный взгляд на театр? Делимся своими впечатлениями и наблюдениями.
Так вот. Сидят как-то Сальери с Моцартом на рельсах и играют в шахматы. Не правда ли, звучит как начало анекдота? Но это не анекдот (хотя мог бы быть), а начало необычного спектакля, смешного, наполненного гэгами, разностильной музыкой и необычным подходом к режиссуре как таковой. Герои — в камзолах, но с элементами из сибирских погодных реалий: Сальери в шапочке с помпоном, Моцарт — в пальто с шарфом поверх камзола, музыкант Володя (он же а-ля Пушкин, Скрыпач с баяном и вся музыкальная партитура спектакля) — в парике, трениках и валенках. Моцарт и Сальери переставляют похожие на шахматные фигурки безделушки на воображаемой доске, отбивая каждый ход звонким ударом молоточка по рельсам. И при этом общаются текстом из пушкинских «Маленьких трагедий», постоянно вываливаясь из него и переходя на обыденный разговорный, как обычные соседи по квартире и по вечности (но об этом — позже). Перед показом актеры Андрей Феськов и Павел Юринов объясняют зрителям правила просмотра, предупредив, что никаких правил нет: ешьте печенье, шелестите конфетными бумажками, ходите между рядами, общайтесь, фотографируйте (но только сугубо для себя), не понравится — смело покидайте зал. Наши культурные зрители предложениями, правда, не особенно воспользовались, но зато настроились вкушать что-то не совсем привычное. И не ошиблись.

В спектакле отразилась одна из общих тенденций современного театра, которую удалось уловить после просмотра нескольких спектаклей «Гравитации». Речь идет об отношении режиссеров к литературному источнику. Он часто служит основой, отправной точкой для авторских прочтений, для создания пространства новых смыслов и отношений, смешения привычных жанров и создания новых. Герои описываемой постановки также не разыгрывают классическую драму. Александра Толстошева не особенно углубляется в психологическую коллизию сюжета и исследование губительной зависти успешного ремесленника от музыки к ветреному гению с недоказуемыми печальными последствиями. Артисты просто играют с сюжетом, как кот с игрушечной мышкой, гоняют его по разным траекториям, закидывают в неожиданные углы, играют с жанрами, предлагаемыми обстоятельствами, музыкой, временем, образной трансформацией. Потому как сколько уже можно посылать в века и пространство одни и те же вопросы: отравил или не отравил Сальери Моцарта, были они друзьями или врагами, что важнее для творчества — талант или трудолюбие? Ну нет на них однозначных ответов! А пытливый человеческий ум их все жаждет и жаждет! Вот и сидят Моцарт и Сальери на рельсах, пришедших из ниоткуда и уходящих в никуда в какой-то вневременной и внепространственной точке, и проигрывают свою историю раз за разом, век за веком и каждый раз по-разному. Как День сурка.

Но расстраиваться не стоит, тут нет ни надрыва, ни излишней драматизации. Нет от слова «совсем», как нынче говорят. Бессмертная трагедия в спектакле Толстошевой и не трагедия вовсе, а лишь повод для игры. «Игра» и «импровизация» здесь — ключевые слова и главные приемы. В рамках заданного сюжета актеры не всегда знают, куда их заведет всепоглощающая игра, которой актеры следуют смело, легко и свободно. «Маленькая трагедия», по столь же свободной воле режиссера, превращается в большой веселый, музыкальный, талантливо сыгранный перформанс, в котором действие, взаимодействие и сам акт творения гораздо важнее, чем результат. Процесс трансформаций, как и весь спектакль в целом, может быть каждый раз разным, в зависимости от настроения зрителей, состояния актеров, количества шипучих таблеточек, заготовленных для отравления (со вкусом персика), и того, кто их в какой момент вдруг захочет выпить. Актеры меняют условия, смещают смыслы, мизансцены, настроения и состояния героев, присваивают реплики друг друга, меняются ролями и местом у фортепиано. Они кружат вокруг пушкинского текста: иногда нарочито-патетично, как в плохом театре, иногда пронзительно и по-пушкински, но чаще — иронично, весело, в дуэте друг с другом и со своими персонажами, с которыми актеры то сливаются, то разъединяются и превращаются в актеров, играющих своих персонажей.
Великолепный, чуткий и гибкий актерский ансамбль главных героев дополняет потрясающий музыкант Владимир Розанов, сочувствующий свидетель этой истории, который хоть на баяне, хоть на пианино играет любую скрипичную или хоровую партию, да хоть бы и Lacrimosa из Реквиема. Музыкальная партитура складывается из произведений широчайшего диапазона: от «Там, где клен шумит» до одноименной оперы Римского-Корсакова, через «Наутилус», «Воскресенье», Фрэнка Синатру и пр. Зрители стеснительно подпевали. У Андрея Феськова, кстати, отличный могучий голос, почти оперный баритон.

Вот так, играючи, распевая, танцуя чечетку, умирая и возрождаясь, выясняя отношения по роли и по жизни, актеры показали зрителям три трансформации известного сюжета за два часа (однажды, по их словам, им удалось сыграть сюжет 7 раз). В перерывах и внутри общались с залом, ломая «четвертую стену», отделяющую актеров от зрителей, угощали редких уходящих (по важным делам, разумеется) конфетами, а потом, чтобы задобрить оставшихся, забросали конфетами весь зал (питерские, кстати, вкусные), разбавили текст локально узнаваемыми фамилиями и топонимами на радость публике. В общем, импровизировали.
В этом и заключается режиссерский эксперимент Александры Толстошевой — в попытке создать театр без режиссера: вот, мол, вам, актеры, материал, идея, предлагаемые обстоятельства — творите, импровизируйте. Однако, как нам кажется, любая актерская свобода существует пусть не в жестких, но все же в заданных режиссерских рамках. Иначе все песни перепутаются…
На поклоны ликующим зрителям актеры выходили неоднократно, непрерывно и попеременно меняясь местами, как и в спектакле. Вспомнилось известное стихотворение Эдуарда Успенского про «Ехал Ваня на коне, вёл собачку на ремне, а старушка в это время мыла кактус на окне». Там Ваня едет то на коне, то на окне, на ремне ведут то собачку, то старушку, а на окне моют то кактус, то собачку на коне… В общем, все как в спектакле. Веселая история получилась. И у Вани, и у Александры Толстошевой.
Фото предоставлены пресс-службой театра «Старый дом»