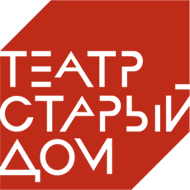Премьера
В ближайшее время премьеры не запланированы!
Фестиваль «Гравитация» угостил новосибирцев дегустационными порциями атмосферы
29 октября 2025Игорь Смольников Infopro54. Новости Новосибирска
Слово «Гравитация» в имени фестиваля — это как раз намёк на объект преодоления. Театральные традиции и каноны бывают, как известно, разными. Некоторые жизненно важны — они как костно-мускульная система театра. Другие – как гири на этих конечностях и крыльях. Борьба с архаикой и шаблонами, отрыв и отлёт от них — в этом суть эволюции театрального искусства.
Не будь этой вечной борьбы, в полукруглых театрах с каменными сиденьями до сих пор бы бубнили мужики в глиняных масках. Как в эпоху Перикла.

А второй, позитивный смысл слова в том, что театр «Старый дом» с 31 октября по 12 ноября станет точкой притяжения для лучших театров России, представляющих актуальные театральные практики. Создаст, так сказать, своё фирменное гравитационное поле. Плодородное, между прочим!
За шесть лет существования «Гравитация» (18+) превратилась в значимое событие федерального уровня. Три успешных фестиваля подтвердили статус площадки, где рождается современное театральное искусство. В 2025 году проект вышел на новую орбиту развития, объединив три культурные столицы России — Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.
Звук как предчувствие
У каждого из фестивалей, у каждой «Гравитация» имелась своя материя-метафора, своя фирменная сущность, марочная субстанция. В этот раз такая роль досталась Звуку.
Ключевая идея этого года — «Звук как язык вселенной» – исследование звука и слушания как способа познания мира. Программа фестиваля включает драматические спектакли, музыкальные перформансы и экспериментальные постановки, где звук становится главным героем повествования, сюжетообразующей материей или важным форм-фактором.

Основной площадкой фестиваля традиционно станет театр «Старый дом», а часть спектаклей пройдет на сценах «Глобуса» и Лофт-Парка «Подземка».
В афише фестиваля — девять театральных событий. Московский блок откроет «Гравитацию» спектаклями Антона Федорова: «Шинель» — современная интерпретация гоголевской повести (Театр «Место» совместно с Пространством «Внутри» (18+); «ЭТО НЕ Я» — драматическая история о поиске себя (Театр «Место» (18+); «Мадам Бовари» — гротескная версия знаменитого романа (Агентство «АРТ-ПАРТНЕР XXI» (18+).
В основной программе: «Кабаре Галич» — музыкально-поэтический перформанс (Центр культуры и искусства «Прогресс», Воронеж, (16+); «Моцарт и Сальери» — экспериментальная версия БДТ (16+); «Квадрат» — спектакль-рейв о 90-х («Плохой театр», Санкт-Петербург (18+); «Магадан/Кабаре» — мистическая история от московского театра «Около» (16+); «Три» от Камерного театра Малыщицкого из Санкт-Петербурга — постмодернистская версия чеховского сюжета о сёстрах (18+); «Е-ЕЕ-EE!» — авторская версия культовых «Бременских музыкантов» Ливанова и Энтина от театра «Старый дом» (16+).
Программа вполне плюралистическая. Например, Александр Галич и олицетворяемый им «дессида-стайл» — эстетика весьма demodѐ. И не очень уместная во времена, когда «свободный мир», так боготворимый Галичем, нас активно и яростно разлюбил. «Помолчи-палачи-первачи» — такой себе рифморяд, если честно. И весёлые патриотичные циники, не любящие Галича, этот ряд очень обидно продолжают. Ибо уязвим он о-о-очень — не меньше, чем «розы-морозы» или имена Тарас и Эраст. Но, как говорится, пусть и Галич тоже будет. И на этот звук найдутся свои уши…
Офф-программа «Гравитации» по плотности и многообразию не будет уступать программе основной. Так что, зрителям предстоят приятные муки выбора. В офф-программе Фестивальная лаборатория композитора Антона Ниязова, публичные дискуссии с участием экспертов, творческие встречи с создателями спектаклей, музыкальные перформансы.
Первым «элементом» офф-программы стал концерт с участием Бюро актуальной музыки Антона Ниязова и артистов театра «Старый дом» под интригующим названием «Эйнштейн в вишнёвом саду» (18+).
Концерт этот стал самой ранней увертюрой фестиваля — его устроили 22 августа, буквально вслед за первым же фестивальным анонсом. «Старый дом» очень эффективно использовал своё архитектурное соседство: площадкой концерта стал стилобат апарт-компекса «Маки», а необычный вогнутый фасад этого здания отлично сработал как акустическая раковина.
Слушай скаССку, дружок!
На ближних календарных подступах к «Гравитации» петербургский режиссер Арсений Мещеряков представил сюрреалистический спектакль «Скасска» (18+). «Скасска» есть в программе фестиваля, а премьера её — словно дегустационная порция фестиваля, этакий пробник «Гравитации».
Ставить Хармса — это как поймать привидение сачком. Однако Арсению Мещерякову охота удалась: он сумел создать на сцене атмосферу, точно передающую дух оригинальных текстов Даниила Хармса.

Сборник «Случаи», увидевший свет в 1939 году, стал тем творческим камертоном, на который настроился Арсений Мещеряков. Эти 14 рассказов — словно дюжина деталей конструктора «Лего», рассыпанная на полу тёмной спальни вверх своими пупырышками. Ярко и колко до вскрика. Гипнотическая музыка, вспышки света, минималистичные декорации, пронзительные, химозные цвета у аксессуаров актерских костюмов, актёры, возникающие из тьмы, словно черти из табакерки — всё работает на создание того самого эффекта – на ощущение «Лего под ногами».
В СССР творчество Хармса было «разрешено наполовину». Детские стихи и несколько рассказов — вот и всё, что дозволялось знать и помнить. Полновесное свидание с Хармсом случилось в 60-х (через самиздат), а затем, в 80-х, и через официальные издания — например, через прогрессистские журналы вроде столичной «Юности», «Невы» или рижских «Лиесмы» и «Родника».
Новосибирские театры не раз обращались к наследию Хармса. Тем более, в конце 80-х в местный интеллигентский фольклор вошёл апокриф о том, что Хармс умер в новосибирской пересыльной тюрьме.
Такого наяву не было — местом смерти Хармса (гражданина Ювачёва) была психиатрическая больница в блокадном Ленинграде, но информация эта бодрила и вдохновляла.
Сергей Афанасьев поставил спектакль в совсем новеньком тогда ГДТ, переплетя клоунаду а ля Полунин с катастрофическим трагизмом (отчасти — под влиянием того самого апокрифа, отчасти — на общем вайбе поздних 80-х — эпохи, очарованной тьмой и распадом).
У Полины Кардымон в 2022 году совсем иная базовая эмоция: поставленная ею в «Глобусе» сказка «Великан Бобов» (18+) — нормальная феерия без всякой хтони в подтекстах. Ну, как нормальная… У Хармса ничего нормального в банальном понимании этого слова вообще не бывает…
Арсений Мещеряков нашёл свой путь к Хармсу через режиссёрскую лабораторию театра «Старый дом», где осенью 2024 года представил эскиз «Скасски». Потом спектакль зажил в версии для уличного театра. И, наконец, добрался до обычной сцены.
Впрочем, сцену «Старого дома» обычной не назовёшь. Этот театр неравнодушен к причудливой эстетике и сюрреализму. От стародомовской «Снегурочки» Островского город долго не мог сморгнуть. «Цемент» по роману Гладкова — тоже отнюдь не соцреализм. В общем, и зритель у «Старого дома» к Хармсу подготовлен, и в эстетическую традицию театра он вписывается как родной.
Хармсовские сюжеты можно трактовать и как зеркало его личной социопатии, и как гротескный портрет сити-социума (А довоенный Ленинград был уже вполне мегаполис). Гражданин без бороды социально обнуляется и становится изгоем. Малорослый человек, встречаясь с магией, не решается попросить о главном. Похудевший обыватель разжалован из людей и выметается как мусор. Поэтика социопатии, потерянности и аутизма у Хармса озорная, смешливая и звонкая, как новогодняя игрушка. Но этот елочный шарик отливает каким-то зловещим блеском. Он, этот шарик — чёрное солнышко одиноких и потерянных. Тот, кто выпадает из ритма социума, рискует быть выброшенным на обочину жизни. Но зато полетит туда в раскоряку и смешно кувыркаясь — у Хармса принято только так!

В коллективном подсознательном Хармс до сих пор числится детским писателем — память услужливо подкинет стихи про тридцать четыре весёлых чижа, про Ивана Топорышкина и его пуделя, про одушевленный самовар по имени Иван Иваныч.
Но эта задорная детскость Хармса — она многослойная и коварная. Он и впрямь большой ребёнок. Но ребёнок шальной — из тех, кто способен посолить аквариум глютаматом натрия или запустить хомяка в космос. Не из одной лишь детской жестокости. А из необоримой тяги к авантюризации будней. Потому со своими персонажами он обращался как лютый шалун с куклами. Мол, захочу — кашей накормлю! Захочу — башку оторву!
Хармс в своих текстах отрывал голову всей окружающей его реальности. Отрывал, словно целлулоидному пупсу* от ленинградского завода «Охтален» (*Их там как раз в конце 30-х начали массово производить – аккурат в пору творческого расцвета Хармса). Отрывал, а из тушки дымовуху делал. Помните, какие славные дымовухи из охталеновских пупсов получались?
Обычная, беззаботная и невинная детскость тут играючи превращается в инфернальную милоту Вэндсдей Адамс. Помните эту милую девочку с косичками? Хармсу Вэнсдей бы очень понравилась, доживи он до зрительского контакта с ней.
А к нормальным детям он как-то не очень… Не любил Хармс советских детей. Хоть и писал для них в журналы «Чиж» и «Ёж». Хорошо писал, детям нравилось. Но не любил Хармс октябрят и пионеров! Аж с каким-то весёлым упоением не любил — не скрывал это и бравировал. Сдаётся мне, это оттого, что внутренний ребёнок Хармса был ревнивым. И никаких прочих, чужих детей снаружи Хармса видеть не желал. Андрей Сенько, Анастасия Белинская, Евгений Варава, Тимофей Мамлин, Арсений Чудецкий, Софья Васильева, Софья Степанова, Александр Шарафутдинов — словно живые куклы этого играющего ребёнка.
Кстати, обычных детей (таковые имеются в новеллах «Математик» и «Леночка») изображают актёры нарочито недетского телосложения, Арсений Чудецкий и Анастасия Белинская — каждый под два метра. К чёрту писклявых карапузов-травести, они для ТЮЗов! У Хармса в «Старом доме» дети огромные — если такие расшалятся, никому мало не покажется. И смех застрянет в горле проглоченным кубиком «Лего». И земля поплывёт из-под ног. Гравитация, ты чего? Гравитация, хватит-перестань…
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская осень становится сезоном кинофестивалей. Культурный трафик города состоит из практически бесшовной череды кинопоказов.
Фото базовое, 1 и 2 в тексте — Игоря Смольникова, прочие — предоставлены организаторами фестиваля, автор: Александр Лукин.