Премьера
В ближайшее время премьеры не запланированы!
Паранормальный КГБ, дохлая интеллигенция и призрак в армии. Какие спектакли о России мы увидим в 2020-х благодаря проекту «Дисциплина»
29 декабря 2020Ольга Тараканова Журнал "Нож"
Знаете, сколько государственных театров в России? Больше шестисот, или около шести на каждый регион. Утопиями 2000-х и 2010-х было либо закрыть все эти здания навсегда, либо проводить там события, которые действительно возможны только в театре, а не в кино или онлайн: ставить спектакли, основанные на местном документальном материале, визуальных и физических впечатлениях и/или участии зрителей. Театры иногда принимали новые идеи, но чаще сопротивлялись, и в 2020-м существование большинства из них всё еще вызывает недоумение. Новосибирский проект «Дисциплина» предлагает новый подход к использованию российской театральной инфраструктуры. Критик и авторка канала «пост/постдрама» Ольга Тараканова рассказывает, почему спектакли теперь ставят про себя, а не про других, а также о том, как герои пьес «Дисциплины» отражают современный капитализм и угрожают ему.
Цифровой театр и российские сериалы
«Современной России не хватает театра, который рассказывает увлекательные истории. Театра с захватывающими сюжетами и яркими протагонистами. <…> Театра, адресованного всем, кто подписан на Netflix», — с такого кураторского заявления начинался проект «Дисциплина», в котором 11 отобранных по конкурсу драматургов писали новые пьесы — под руководством кураторов и по канонам, которые те предложили. Заявление было сделано в январе 2020 года, и к первому публичному отчету в декабре «Дисциплина» оказалась между двух контекстов.
Во-первых, 2020-й стал годом прорыва в российской сериальной индустрии. Появились «Чики» об отбитых и дико харизматичных секс-работницах в маленьком южном городе; «Хороший человек» о гендерном насилии, которое страшнее полицейского; «Псих» об отцовстве, материнстве и вообще концепциях семьи у очень обеспеченных москвичей; «Трудные подростки» (второй сезон) о травле, любви и всех оттенках шантажа в спецшколе для подростков на учете. Ко всем этим работам много претензий, но эти претензии как минимум интересно и важно озвучивать.

Во-вторых, 2020-й убедил театры принять и хоть как-то освоить новые форматы, даже если совсем не хотелось. Видеоигры, зум-конференции, программные коды, инструкции и эфиры в сторис — всё это теперь тоже спектакли. Иногда они здорово используют или переизобретают цифровые инструменты, а иногда, как и спектакли на сцене, оказываются ужасно скучными.
Если же говорить не о 2020-м и не о пандемии, а о 2010-х, то они стали временем, когда российский театр признал: спектакли — это не постановки пьес, спектакли — это исследование коммуникации. Зрители превратились в актеров в иммерсивном, партиципаторном и сайт-специфическом театре, в предмет изображения и собеседников — в документальном. Драматурги отказались от сюжета и действующих лиц и стали писать каталоги, партитуры, конференции, сценарии для игр.
Вот только как раз к 2020-му стало ясно, что форма и даже метод работы — не панацея.
Иммерсивный театр бывает коммерческой обманкой, документальный может колонизировать и уплощать «доноров», на чьих историях основывается, а радикальную пьесу вообще можно написать, просто открыв словарь приемов сегодняшнего театрального авангарда.
Так что сама идея делать «театр, который говорит со зрителем на доступном языке; театр реалистический — умный и живой, а не старомодный и поверхностный», которую легко было обозвать консервативной и нелепой, на этом фоне всё же вызвала у меня большой интерес. Что же из нее получилось?
Сокровище, тайна, недостаток и цель
- «Девушка возвращается на родину, в небольшой городок на Северном Кавказе, чтобы в одиночку расследовать самоубийство сестры».
- «В жизнь интеллигентной столичной семьи — высокомерной, пассивной и непрактичной — врывается витальная молодая провинциалка с тяжелым прошлым».
- «Молодой офицер впервые заступает на ответственную работу — ночное дежурство в казарме — и сразу же сталкивается с абсурдной проблемой».
Это описания пьес, прочитанных на «Дисциплине» в декабре. Выбивается только одно: «Ученые пытаются засечь полтергейст в обыкновенной, казалось бы, красноярской квартире», но и в этом тексте на самом деле есть один-единственный протагонист, вокруг которого строится действие. Тут хочется уточнить: действие не просто строится вокруг протагониста — он сам или она сама, по идее, его и движет. Впрочем, это уже не совсем правда, и в этом корень успеха и значимости «Дисциплины».
Пьесы проекта, не только их описания, действительно скроены по общим лекалам, и эти лекала — героическая драматургия и даже скорее сценарное мастерство окологолливудского толка. Сокуратор «фабрики нарративного театра» (как в открытую называет себя «проект», оппонируя доминантным сегодня в искусстве идеям «лаборатории» и «поиска») — сценарист Александр Молчанов. Он автор известной книжки «Букварь сценариста», главная мысль которой: «Итак, что притягивает нас к экранам? Герой. За него мы боимся, его победы мы желаем».
Молчанов предлагает складывать героя из четырех элементов — тайны, недостатка, сокровища и цели. С целью и недостатком понятно, сокровище — это суперспособность, что-то, что герой или героиня умеют лучше других, тайна — что-то, что они от других скрывают.
«Может быть герой без тайны? Может. Но это будет не такой интересный герой. Возможен герой без недостатка? Возможен. Но за него никто не будет переживать, ведь он неуязвим. Может герой не иметь сокровища? Может. Но никто не захочет быть на него похожим. Может быть герой без цели? Не может. Потому что тогда это будет не герой».
Статус героической драматургии сегодня — странный. Во-первых, в истории русскоязычного театра она уже несколько десятков лет на вторых ролях. Во-вторых, критика западного и западноориентированного кино, где герои, напротив, по-прежнему в центре внимания, уже давно показывает, как структура «сильный человек против всего мира» на самом деле не подрывает и не переделывает текущий порядок и все его несправедливости, а поддерживает их.
Философы жизни и вынужденные герои
Начнем с героев в русскоязычном театре. Подробнее всех, на материале позднесоветских, ранних постсоветских и совсем недавно написанных пьес, этой проблемой занимается критик и театровед Павел Руднев. С оценками Руднева я часто не согласна, но сами исследовательские выводы, к которым он приходит, кажутся мне важными и, главное, емкими.
- «Взрослый капризный мужчина запутался, как Лаокоон, в витом телефонном проводе».
- «Униженный и оскорбленный, который не может изменить мир. Не только не может, но отчасти и не желает; как в пьесе Богачева: „Я русский человек, у меня унитаз течет“».
- «Мечтательная интонация слабого мужчины, мечта о подвиге, галлюциногенное видение о поступке».
Руднев не просто определяет самый часто встречающийся центральный образ в русскоязычной драматургии 1990-х, но и показывает, как этот образ сформировался. Слабый мужчина, или «философ жизни», как его еще называет театровед, появился в 1970-х и 1980-х как этический ответ на советские героические догматы. Бездействие и готовность проиграть казались в репрессивной системе более ценными человеческими качествами, чем способность работать — неизбежно на систему. Позже, когда система рухнула, герою пьес оставалось только демонстрировать «свою хрупкость, ломкость, тонковыйность, жертвенность перед лицом жесточайшей реальности» и «жаловаться, стенать, стонать» (Людмила Петрушевская, Евгений Гришковец, Владимир Сорокин).
Пьесы 2000-х, по Рудневу, опирались на предпосылку о том, что человек потерял ценностные ориентиры и контакт с миром. Драматурги предлагали решение в разных формах, от антиутопий до монологических проповедей, но всегда это решение было консервативным и универсалистским: человеку по природе свойственно насилие (Максим Курочкин); человеку по природе необходима связь с божественным (Иван Вырыпаев). Немного в другую сторону уводил только Павел Пряжко, но, по сути, он скорее доводит до логического завершения линию 1990-х о слабом мужчине:
«Пряжко также разрабатывает метод посекундного наблюдения за жизнью, когда в „объектив“ драматурга попадают мелочные действия, физиология повседневности. С героями Пряжко („Запертая дверь“) и братьев Пресняковых („Изображая жертву“) также связана тема вторичности жизни, невозможности быть оригинальным в современном мире. Герой первой пьесы имитирует социальные ритуалы для того, чтобы мир оставил его хоть ненадолго в покое, в прострации, в бездействии, герой второй пьесы повторяет архетипы прошлого, использует архетипы в режиме second hand. <…> Герою свойственно желание стать никем, анонимом, серым пятном, лузером, посредственностью, лишь бы не быть уловленным в социальные сети различных калибров»
В русскоязычной драматургии начала 2010-х Руднев наконец находит героя — однако «вынужденного». Вынужденный герой появляется в первую очередь в политических спектаклях «Театра.doc» и всегда стоит в оппозиции к государству, точнее, режиму. Героями «Дока» стали и Сергей Магнитский, юрист, умерший в тюрьме, и молодые люди, выходившие на митинги на Болотной.
Сейчас, в конце 2010-х и начале 2020-х, драматурги, по Рудневу, занимаются в основном двумя темами. Во-первых, созданием новых мифов, поиском «легендарных обоснований и новых пафосов» жизни. Во-вторых, проблематикой насилия — причем не только государственного, но и, например, гендерного и имперского.
В целом, читая такую историю русскоязычной драматургии, я сразу хочу назвать ее историей «полумертвых белых мужчин». Возможно, в гигантском потоке пьес, написанных на русском за последние 30 лет (в России огромная самоорганизованная драматургическая индустрия, на конкурс «Любимовка» каждый год присылают сотни текстов), на самом деле не меньше места занимали другие сюжеты и другие герои. Но в истории, написанной к настоящему моменту, на первых ролях именно они — «философы жизни», противостоявшие государству с помощью бездействия, с исключением в лице «вынужденных героев», противостоявших государству с помощью отчаянных, почти всегда обреченных на неэффективность действий.
2020-й был годом, когда мы в жизни, не в драматургии, поняли, что «философы жизни» и «вынужденные герои» — не только жертвы государственного насилия, но и авторы насилия по отношению к разным другим людям. В драматургии же — что эти разные другие люди, не только потерянные мужчины и, изредка, страдающие от любви или неудачного материнства женщины, как раз и могут быть героями.
В общем, антигероизм, скептическое отношение к активному действию в русскоязычной драматургии сегодня хочется перевести из статуса ее стержня в статус маргинального явления — и в этом смысле фокус на героя в «Дисциплине» оказался очень адекватным времени ходом.

Киборги-предприниматели и супермены за богатых
И всё же героизм — проблематичное явление. На лекции в рамках «Дисциплины» Молчанов ссылался на исследования мозга, чтобы доказать тезис о зависимости зрительского интереса от наличия сильного героя. Но дело не только в биологии, а точнее, биологию нельзя мыслить в отрыве от культуры и экономики.
Героические сюжеты, как правило, построены в логике американской мечты. Герой сражается, преодолевает препятствия и, благодаря отваге и упорному труду, добивается своей цели. Таким образом, общий посыл героических сюжетов — ты всё можешь, ничего тебе не помеха, нужно только по-настоящему захотеть. Этот посыл одновременно успокаивает зрителей и провоцирует у них тревожность. С одной стороны, как бы плохо всё ни было устроено, как бы сложно тебе ни было — решись, действуй, не сдавайся, и всё обязательно получится. С другой, ни в коем случае не сиди без дела. Если не получается — значит, ты виноват или виновата.
Американская мечта — идея, сформулированная в начале XX века и описывающая самое зарождение Америки в XIX веке. Сегодня корректнее говорить о неолиберализме, то есть политико-экономической системе, установившейся в 1980-х в западном мире и в 1990-х — в России. Неолиберализм подразумевает создание государством рынков, основанных на конкуренции, и почти полный отказ от других механизмов перераспределения денег. То есть вместо социальных выплат и бесплатных сервисов — только бизнес. Здравый смысл, который формирует неолиберализм, говорит всё то же, что и героические сюжеты. Решись, действуй, не сдавайся, и всё обязательно получится. Ни в коем случае не сиди без дела. Если не получается — значит, ты виноват или виновата.
На русском языке неолиберальную логику и альтернативы ей недавно здорово проанализировал социолог Вадим Квачев — правда, применительно к образованию. Вот что он пишет:
«…в процессе неолиберализации его производство [производство знания] дробится на две части. Тотализирующее знание представляет собой общее понимание и представление о том, как работает наше общество, какие процессы в нем происходят, каков их социальный и конкретно-исторический контекст. Иными словами, это знание и понимание того, что такое капитализм. Распределенное знание [которое и ценится в неолиберализме] — это знание о том, как в обществе преуспеть, разбогатеть, сделать карьеру».
Критики и теоретики, которые изучают влияние либерализма именно на драматургию и сценарии, выделяют разные, более конкретные проявления этого общего принципа — в основном в фильмах и сериалах.
Например, Роберт Смит и Алистер Андерсон показали, что образы предпринимателей сегодня встраиваются в структуры, аналогичные житиям святых. В них подчеркиваются «нравственность», «успех», «деятельная мечта». Майкл Блуин предлагает теорию «предпринимательского взгляда», который «всё время перемещается из точки в точку, творчески разрушает старые взгляды» и, в общем, проводит идею, что достаточно по-новому посмотреть на проблему, чтобы ее разрешить:
«Голливуд поощряет склонность забывать тяжелые уроки, предпочитая им простые ответы. Если вас лишили свободы, придумайте свою собственную идею „свободы“. Если с климатом не всё в порядке, потребляйте „зеленые“ продукты и не задумывайтесь о неразрешимых противоречиях между свободным рынком и экологической устойчивостью. Распространяйте „антирасистский“ контент, не обращая внимания на все несправедливости, которые всё труднее разглядеть».
Кроме того, Блуин пишет о магии и о том, почему так популярны сейчас истории о волшебстве. Магия — это те самые трудноуловимые, нематериальные структуры неолиберализма, а волшебник и есть герой, который актом веры достигает в нем успеха.
Наконец, Дэн Хасслер-Форест разбирает в связи с неолиберализмом предельный случай героического сюжета — фильмы о супергероях. Хасслер-Форест показывает, что все они удивительным образом построены на «фантазии о возвращении», или «о реставрации».
Супергерои никогда не меняют мир, они только защищают текущий порядок. Более того, делают это насильственно, тем самым оправдывая «борьбу добра со злом» любыми средствами и заставляя зрителей «чувствовать симпатию к наделенным властью богатым людям и даже идентифицировать себя именно с ними».
Еще более интересный анализ связи суперспособностей с капитализмом встретился мне на независимом русскоязычном ресурсе о компьютерных играх, текст написал Константин Зубарев:
«Киборгизация ведет к специализации <…>. Получив чип в мозг, человек выбирает путь ученого или инженера. Получив стальной скелет, человек должен использовать его, скажем, работая на планетах с высокой гравитацией, иначе эта операция оказывается лишенной смысла. То есть при киборгизации человек оказывается или привязан к определенной функции, то есть поставлен в ситуацию максимума отчуждения. <…> Супермен с его полетами и суперсилой — идеальный герой капиталистического мира. <…> Таким образом, киборгизация или генная модификация не могут вести к увеличению счастья, ни при коммунизме, ни при капитализме. Они означают только рост специализации, превращение человека в функцию, большее расчеловечивание».
Значит ли всё это, что написать активного героя — значит неизбежно воспроизвести и поддержать неолиберальную логику? Конечно, нет. Сокровище, тайна, недостаток, цель — всё это на самом деле входы, через которые можно подключать к сюжету структурные проблемы.
Тут даже есть забавная рифма с названием проекта. Почти «дисциплина», «дисциплинарная власть» — один из ключевых терминов в сегодняшней социальной теории. Дисциплинарная власть «отправляется дисциплинарными институтами (тюрьмами, фабриками, ПНИ, больницами, университетами, школами и т. д.), которые структурируют социальное пространство». Однако, по мысли Мишеля Фуко, дополненной Майклом Хардтом и Антонио Негри, как раз с наступления неолиберализма мы живем не в «дисциплинарном обществе», а в «обществе контроля».
То есть раньше институты и институции были отдельными учреждениями со строго определенными границами, а теперь контроль за исполнением правил жизни рассеян в обществе, каждый наблюдает за каждым и, главное, за собой, чтобы никто не отклонялся от здравого смысла.
Впрочем, в «обществе контроля» институты не теряют власть вовсе, только механизмы ее отправления становятся более сложными. К тому же общество целиком не устроено по одинаковым неолиберальным правилам, эти правила всегда накладываются на местные особенности, на особенности сообществ. Как все эти структуры власти и влияния устроены и как они каждый день влияют на жизнь всех нас — с этим-то и интересно разбираться.
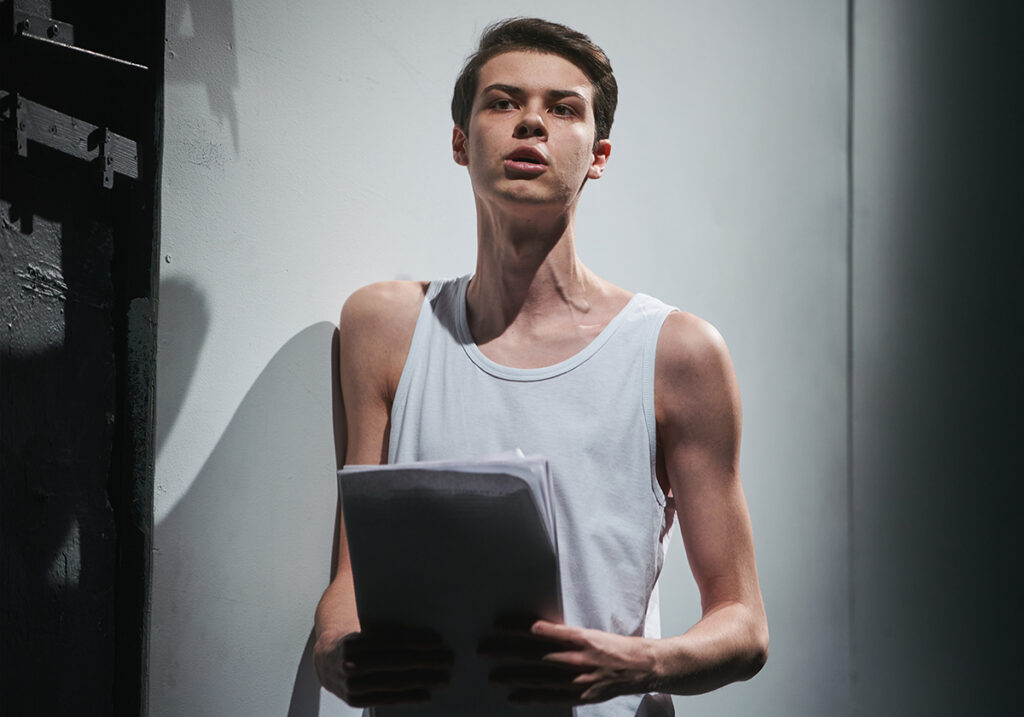
Правда и повестка
Поговорим, наконец, о самих пьесах «Дисциплины». Точнее, для начала немного о том, как были отобраны их авторы. На опен колл в проект прислали почти 500 заявок. Кураторы отобрали одиннадцать, явно руководствуясь принципом разнообразия. Среди участников проекта: шесть женщин, пять мужчин; шесть человек, которые уже писали пьесы, пять дебютантов; авторы из Казани и Владикавказа, из Минска и Баку, из Берлина, из Ярославля и Новосибирска, только трое — из Москвы.
О квотировании в проекте, впрочем, нигде не сообщается, и скорее можно предположить, что такой набор отражает живой и даже личный, человеческий интерес кураторов. Оксана Ефременко и Антон Хитров — инициаторы проекта — на обсуждениях раз за разом подчеркивали, что в русскоязычном театре им не хватает пьес, «которые с умом говорят об острых социальных и политических проблемах». И даже: «откликаются на повестку». Почти во всех остальных театральных проектах слово «повестка» до сих пор ругательное.
В то же время Хитров и Ефременко подчеркивали, что направляют авторов в сторону от дидактики и нравоучения ко въедливому анализу реальности. И я услышала тексты, в которых действительно есть анализ — нет дидактики — и вместе с тем часто есть довольно ясная авторская позиция, авторское отношение к каждому из персонажей.
Начнем с пьесы «От отбоя до подъема» новосибирского писателя Алексея Понедельченко. Ее героя легче всего сопоставить с конструкцией «слабый мужчина в репрессивной системе», ведь это текст о первом ночном дежурстве молодого лейтенанта в российской армии. Путь лейтенанта Стеклова показывает, что есть еще промежуточные точки между бездейственным сопротивлением и бравым подчинением абсурдной системе в лице майора Пелевина и старшины Бондарчука, которые солдат считают равными обезьяне. Точнее даже, есть ценности и цели, которые лежат в другой системе координат.
Ключевая сцена в «От отбоя до подъема» — разговор Стеклова с женой Ольгой в неприглядной комнате в служебном общежитии. Пьеса Понедельченко — редкий случай, когда единственная женщина в мужском тексте не просто избежала презрительного мизогинного отношения, но именно с ней вообще и предлагается соотноситься большинству зрителей. Ольга не покорная и пассивная жена, а трезвая и умная женщина, которая посмеивается над армейским фольклором и армейскими привычками, готова уехать и оставить мужа, но прежде — разговаривать с ним о своих чувствах. Так, целью Стеклова становится отдежурить ночь без срывов, чтобы встретить наступающий день рождения Ольги с ней вдвоем — ведь и он способен не только говорить о своих чувствах и жаловаться, но и слышать и учитывать чувства жены.
Удивительно, но цели Стеклов добивается. И всё же это не пьеса со счастливым концом, которая поет ту самую неолиберальную хвалу личному выбору и личной ответственности. Чтобы заслужить отгул, Стеклову приходится освоить набор абсурдных армейских правил, главное из которых: в роте служат не только 40 живых солдат, но и 41-й — герой Великой Отечественной войны рядовой Бандура, для которого предусмотрены кровать, памятник и вечная возможность находиться в строю в виде призрака. Стеклов мирится с существованием Бандуры, чтобы доказать любовь и готовность быть внимательным к жене, но на финальный праздничный ужин заваливается майор Пелевин, и они оба, выпивая «за тех, кого нет с нами», вдруг надолго зависают взглядом в пустом углу. «Эй, мужчины, что с вами?» — пьеса заканчивается репликой Ольги и в итоге кажется очень точным высказыванием о том, что и личный выбор, и структурное насилие имеют большое влияние на ход наших жизней.
Пьеса «Гоша» журналиста Петра Маняхина, который тоже живет в Новосибирске, но работает в главном российском расследовательском медиа «Проект», наоборот, не расшатывает структуру «беспомощный мужчина в жестокой системе». Отличие от антигероических сюжетов, однако, в том, что специалист полуфейкового советского центра по исследованию паранормальных явлений Женя здесь изображен скорее критически, чем как ценностный ориентир. Женя вроде как тоже страдает от абсурдных требований и скоропалительных решений со стороны КГБ (центр закрывают), но по-настоящему сочувствовать ему мы не можем: во-первых, он изучает полтергейст по таким явлениям, как брошенный тапок и перегоревшая проводка; во-вторых, довольно быстро вскрывается, что полтергейст он вообще не изучает, а сидит и хочет искать жену с дочкой, которые, похоже, от него сбежали.
Впрочем, по «Гоше» очевидно, что на самом деле Маняхина интересуют, конечно, не советский НИИ и не героические сюжеты, а устройство (около)государственной власти в современной России. Его пьеса — театральная версия расследований, таких, например, как про «кремлевского старца», и это действительно тип текстов, которого ужасно не хватает российскому политическому театру.
Но всё-таки не менее важно, что вместо восхваления ученого-диссидента — здесь проблемный образ, в котором присутствуют элементы и восхищения, и солидарности (на пресс-конференции Маняхин вообще сказал, что «Гоша» — пьеса про выгорание), и критики.
В «Наташе» Марины Крапивиной, самой опытной авторки «Дисциплины», в отношении к главной героине тоже смешиваются солидарность и критика. Пьеса строится вокруг классового конфликта: 38-летняя Наташа, выросшая в детдоме в Ростовской области, надолго — на много лет, а может, и навсегда — остается жить в квартире московской семьи, «в энкавэдэшном доме».
Интеллигентский снобизм персонажей «Наташи» вызывает однозначную авторскую ненависть, 70 страниц пьесы — нон-стоп пулеметная очередь по нему, хотя сами по себе, по отдельности все члены семьи вроде как хорошие люди.
Еще интереснее, однако, обстоит дело с главной героиней. Крапивина здорово вывернула логику «паразитизма», который обычно приписывается в русскоязычной литературе персонажам вроде Наташи в отношениях с представителями более высоких классов. «Паучихой» называет Наташу пьющий интеллигент Андрей, ставший ее мужем, во время сцены пьяной драки не в самом конце, а за минуту до. Таким образом, обвинение в паразитизме как бы переходит из статуса авторской оценки в статус сомнительного мейл гейза. Авторская же позиция состоит в том, что Наташа теряет свой революционный потенциал и перестает вызывать солидарность, когда воспроизводит в самом финале чуть другую по форме, но ту же по сути логику снобизма: «Че это за бокалы для вискаря. Неси те, на ножках, матовые, которые мы из Черногории привезли», — пусть не интеллигентскую, а среднего российского класса 2000-х — 2010-х.
Пьеса «Наизнанку» Карины Бесолти ближе всего подходит к созданию фигуры нового активного героя — точнее, конечно, новой героини, и даже двух. «Наизнанку» начинается там, где сюжеты о насилии, как правило, заканчиваются — с самоубийства жертвы, которое вдруг становится не шагом отчаяния, а способом действительно перевернуть жизнь тех, кто испортил твою. Расследовать самоубийство молодой девушки Иды приезжает ее старшая сводная сестра Фариза, давно уже перебравшаяся в Москву. Она обманом попадает в дом к вдовцу Иды и его семье — заводит роман с младшим братом, призывает его сбежать с ней и грозится сбежать одна, если он не решится, и в итоге тот, чтобы удержать невесту, крадет ее.

С кражи девушки начинается, вокруг краж и вертится пьеса: «Я же вещь, которую можно переносить туда-сюда на усмотрение мужчин. Из дома унесли, в дом принесли». Причиной самоубийства, конечно, оказывается сексуальное насилие со стороны мужа, причиной сексуального насилия, в свою очередь, — физическое насилие со стороны отца и общественное давление, желание «быть нормальным».
Писать о «Наизнанку» мне труднее всего: Карина Бесолти живет во Владикавказе и знает, о чем и зачем пишет, я же смотрю совершенно внешним взглядом. И всё-таки скажу, что героической здесь оказывается линия, построенная на строгом противопоставлении прогрессивного и традиционного, а цель героини — расшатать или хотя бы вскрыть насильственные устои.
Но вот что важно. Когда я рассказывала о своих опасениях насчет «Наизнанку» кураторам «Дисциплины», они сразу стали говорить: ты беспокоишься, что зрители услышат эту пьесу как историю про «дикие горы», но ведь можно перед спектаклем пригласить эксперток из кризисных центров и рассказать, как обстоят дела с насилием в разных городах России. Я подхватила: я беспокоюсь, что северокавказское общество будет сведено к репрессивным традициям и сбежавшим женщинам и мужчинам, освободившимся от традиций, но ведь можно перед показом провести и лекцию об исламском феминизме, о формах сопротивления внутри разных кавказских республик. Можно собрать, офлайн или в зуме, разных женщин и сочувствующих, живущих в Дагестане, в Чечне и в Северной Осетии или переехавших оттуда, и попросить их высказаться о спектакле после просмотра — и так сформировать линию не универсально эстетической, а субъективной художественной критики, которой в России пока преступно мало. И всё это возможности, которые в полной мере дает именно театр — не кино, не онлайн-показы и не литература.
Поэтому в конце вернемся к главному вопросу на «Дисциплине»: почему же нужно ставить реалистические нарративные тексты в театре?
От медиум-специфичности — к институциональной специфичности
Реалистические нарративные пьесы — интересные и говорят на важные темы: классовые конфликты, армия, гендерное насилие, устройство государственной власти, И это только четыре из одиннадцати, а в январе прочитают оставшиеся семь.
Кроме того, все четыре — честные тексты. Что у всех них общего? Они автофикциональны — то есть основаны на личном опыте авторов и авторок, на знакомых им реалиях. Они наследуют документальной традиции — каждому тексту явно предшествует исследование, будь то юридическое, как в «Наташе», или, скажем, историческое, как в «Гоше», поэтому почти все детали и подробности очевидно не фантазия авторов, а результат той самой «охоты за реальностью», уже много лет важной для российского театра. Наконец, они на самом деле не воспроизводят, а обновляют каноны «хорошо сделанной пьесы» (это такое немного ругательное выражение в театральной критике). Например, в каждой из пьес «Дисциплины» герои долго и дотошно проговаривают свои чувства — и это очень адекватно сегодняшней реальности, а не догматам, по которым сюжет должен строиться на действии, пусть и совершенном при помощи слов.
Но более того — реалистические нарративные тексты позволяют задействовать для нужного дела ту театральную инфраструктуру, которая уже много десятков лет как создана в России.
2010-е были временем, когда российский театр открыл для себя идею медиум-специфичности. Прочитав книжку «Эстетика перформативности» Эрики Фишер-Лихте, переведенную в 2014-м, а на немецком изданную в 2004-м, художники и критики зафиксировались на мысли, что театр — это всегда про общение, про встречу живых людей здесь и сейчас, про обмен живой энергией и взаимовлияние. Прочитав книжку «Постдраматический театр» Ханса-Тиса Лемана, переведенную в 2013-м, а на немецком изданную в 1998-м, художники и критики полюбили «взрывать фиктивный космос» — не разыгрывать истории, а создавать ситуации, впечатления, события, которые тоже возможны, только когда мы все вместе находимся здесь и сейчас. Потом было еще несколько книжек, все они, как и Фишер-Лихте с Леманом, были на самом деле историческими — про 1960-е, про 1980-е, про 2000-е, но многие (и я в том числе) прочитали их как учебники: театр надо делать вот так, а вот так больше не надо.
Лучшие (московские) спектакли 2020-го следуют логике театральной медиум-специфичности. Это, например, «Неформат» — вербатим о жизни нерусских профессиональных актеров в России с элементами документальной хореографии и документальной оперы, который они сами и исполняют. Или «Университет птиц» — один из первых экоспектаклей на русском устроен как последовательность комнат, которые напоминают выставку, учебный класс (где говорят на птичьем языке вместо человеческого) и даже парк скворечников. Или «Дыхание» — это танцспектакль, в котором девять исполнителей разного возраста и с разными телами показывают в движении, как сложен и важен на самом деле самый привычный и незаметный процесс жизнедеятельности. Еще лучше доказывает, как маргинален сегодня нарративный реалистический театр, проект «Спонтанная программа» фестиваля «Точка доступа» — каталог онлайн- и цифровых спектаклей молодых российских художников, созданных в ответ на опен колл в самом начале пандемии.
Так зачем ставить сюжетные пьесы, если есть, например, стриминговые платформы?

Во-первых, кинопроизводство гораздо дольше и затратнее, чем театральное. Представьте, сколько денег и времени потребовалось бы, чтобы снять одиннадцать фильмов или сериалов. Пьесу можно писать в одиночку — или на такой фабрике, как «Дисциплина»; выпуск спектакля занимает в среднем три месяца. Таким образом, театр — средство для гораздо более скоростного и разнообразного реагирования на важное сейчас.
Во-вторых, необходимость посетить театр, чтобы посмотреть спектакль, позволяет обрамить саму пьесу так, как не обрамишь показ в кинотеатре или страницу сериала на нетфликсе. Лекции, обсуждения, споры — всё это бывает, надо признаться, ужасно скучным, но бывает также живым и яростным. Ведь местом встречи, контакта здесь и сейчас может быть не только сам спектакль — встреча может длиться дольше.
В-третьих, показы проекта, который заявлен как «фабрика», ориентированная на производство «продукта», на самом деле поддерживают важную для современного театра логику художественного поиска и процесса. После читок возникали вопросы к пьесам, возникали вопросы к способам актерского существования — и, наверное, труппы репертуарных театров иногда могут сыграть лучше, чем собранные под кино звездные составы, но иногда могут и хуже, выдавая стереотипные, например, образы, утрируя персонажей. Но это процесс и поиск, и в мире трансмедиальности — и, кажется, о да, децентрализации, ведь проект «Дисциплина» новосибирский, а не московский — любая пьеса может стать импульсом и для сериала, и для онлайн-проекта, и вообще для новых форм — пусть даже на первый взгляд весь этот реализм кажется таким консервативным.
Фото: Виктор Дмитриев и Алексей Гребнев




