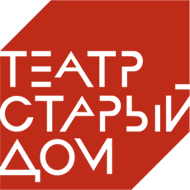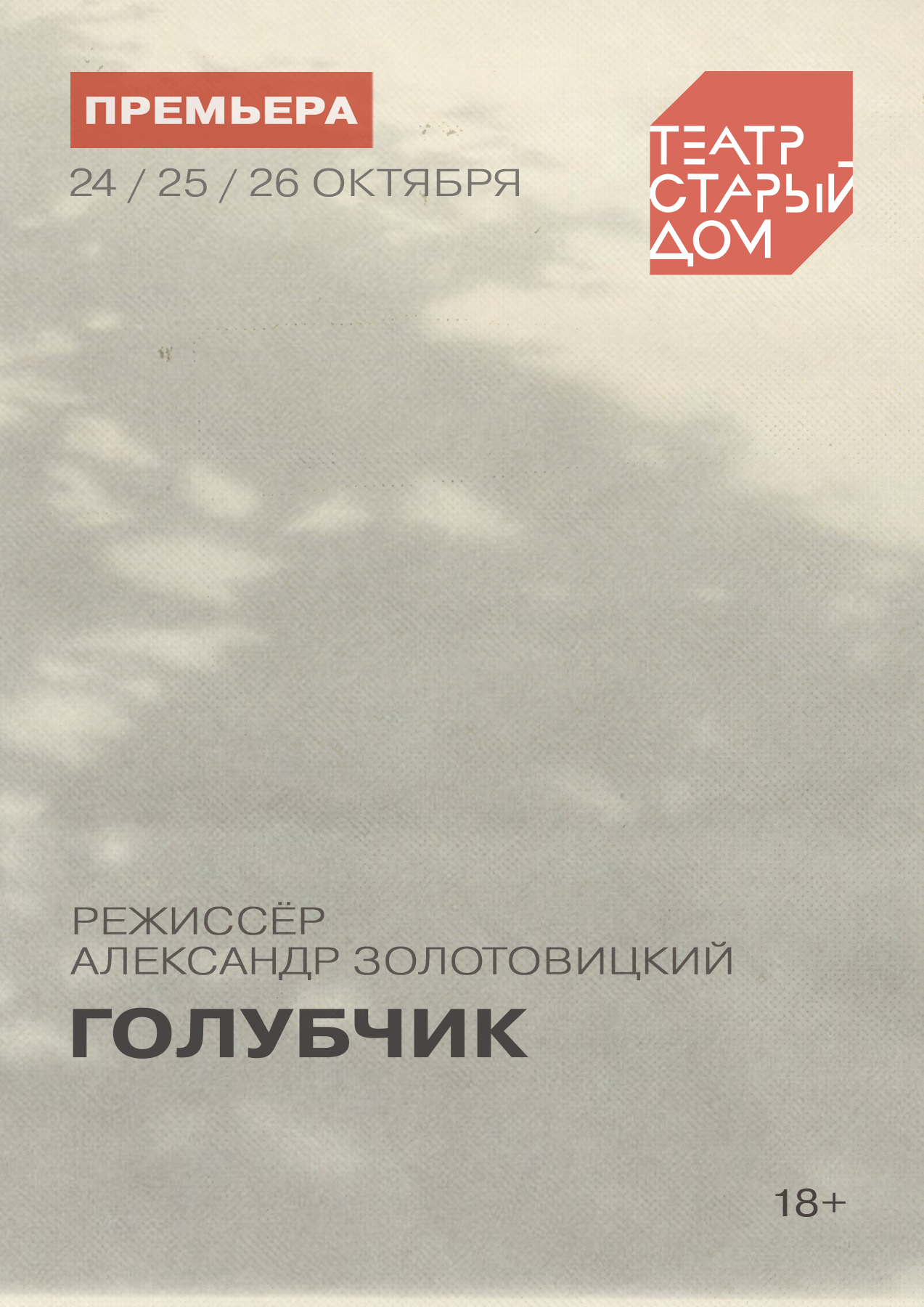ВСЕ НЕ ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
11 декабря 2024Татьяна Тихоновец Петербургский Театральный Журнал
В новосибирском театре «Старый дом» прошла лаборатория «Режиссерский марафон». Куратором ее была Анастасия Паукер, пригласившая трех молодых режиссеров для постановки эскизов с артистами театра. Александр Золотовицкий, Арсений Мещеряков и Филипп Гуревич в течение десяти дней работали с артистами над теми пьесами, которые выбрали сами. Никакой заранее обговоренной темы, никакого списка пьес, из которых надо выбрать, в этом случае не было. Но любопытно то, что направление поисков у всех троих оказалось общим. Все трое смотрели в сторону игрового, а если шире — постдраматического театра. Золотовицкий выбрал «Немого официанта» Гарольда Пинтера, Мещеряков — «Случаи» Даниила Хармса, Гуревич — «Смерть Тарелкина» Александра Сухово-Кобылина. Все три эскиза были созданы «по мотивам». И дистанции с авторским текстом были у всех разные.

Сцена из эскиза «Немой официант».
Фото — Виктор Дмитриев.
Главное, что объединило, на мой взгляд, все три эскиза, — это «странность», «остранение» всех трех получившихся историй. А если точно следовать терминологии Виктора Шкловского, то «остраннение». Этот термин Шкловский ввел в 1916 году. (Сам он объяснял, что термин возник от слова «странный». Но прижился он с одной буквой «н», что было опиской. Шкловский не стал настаивать и махнул рукой. Не до этого тогда было.) Не могу не заметить, что этот термин появился на несколько десятилетий раньше брехтовского «очуждения», которое тоже путают с «отчуждением», а Брехт явно был знаком с работами Шкловского. Но это я написала справедливости ради! Согласитесь, «остраннение» точнее передает смысл.
Что означает это слово? Создание нового восприятия предмета, новое его «вИдение». А не узнавание. Не удовольствие встречи с привычным, знакомым, когда киваешь головой и радуешься, что «узнал». Думаю, что режиссеры совершенно не думали об этом, и слава богу. А иначе запутались бы, как та известная сороконожка, которую спросили, что делает ее семнадцатая лапка, когда тридцать шестая ступает на землю. Но зато все эти чувства я в полной мере испытала как эксперт и как зритель. А это всегда огромная радость: тебе показали то, о чем ты даже не подозревал, и ты увидел это как бы впервые.

Сцена из эскиза «Немой официант».
Фото — Виктор Дмитриев.
Пьеса «Немой официант» Пинтера, написанная в 1957 году («варианты названия — «Тупой официант», «Глупый официант»), считается «чистым случаем» в ранней драматургии Пинтера, сочетающей в себе все ее позже развившиеся черты. Все можно найти в ней: и атмосферу тревоги, непонятной угрозы, и политические намеки, и противостояние несправедливости. Ну и вообще, угрюмость ее зашкаливает. Два человека в каком-то мрачном подвале готовятся к убийству кого-то, непонятно кого и непонятно когда. Ну да, я готова была ко всему: искать вместе с Беном и Гасом смысл их кромешной жизни, думать об экзистенциальном одиночестве, скорбеть об утрате человеческого облика. Это, кстати, написал в программке сам режиссер, но я настроилась на все это заранее.
Я не готова была смеяться. (Разумеется, вспомнилось знаменитое «Ожидание Годо» молодого Бутусова. Похожий случай.) Бен — Сергей Маштаков (новый артист театра в этом эскизе впервые появился на сцене) и Гас (Арсений Чудецкий) говорили вроде бы знакомый текст. Но почему-то сразу стало смешно. Режиссер ввел в эскиз окровавленную, замотанную в пленку девушку, которая все время слоняется по сцене. То есть сначала ее убили, в пленку замотали и в люк запихнули, а потом она начала бродить туда-сюда, из кулисы в кулису. Юлия Борщева стойко продержалась целый час в спеленутом виде. Сначала мне показалось, что зря Золотовицкий сразу открыл секрет пьесы. Но оказалось — нет, не зря.

Сцена из эскиза «Немой официант».
Фото — Виктор Дмитриев.
Вообще, зрительский опыт последних десятилетий, фильмы Дэвида Линча, Джармуша, МакДонаха, совершенно изменили контекст восприятия того текста, который был написан задолго до их кинематографических опытов. Этот лаконичный мрачноватый текст оброс такими смыслами, которые раньше и представить себе было невозможно. Когда Бен (Маштаков) в глубоком потрясении читает газетные новости про старика, который полз под машинами, ну почему-то правда становится смешно (особенно в контексте замотанной девицы). Смех здесь, конечно, немного нервный и короткий. Потому что жаль пропустить за смехом важные моменты. А какие? Режиссер как будто осторожно счищает с каждой фразы ее привычный смысл. А актеры — с каждой оценки сдирают привычную интонацию. То есть ту, которую ты ждешь. И не дожидаешься, а слышишь что-то непривычное, «странное». И вот тогда и возникает нервный смешок, которого ты от себя тоже не ожидаешь. Объяснить, почему ты смеешься — невозможно. Это все равно, что объяснять суть анекдота.
Но в финале, когда из люка опять вылезает девушка, а убитый Гас лежит перед ней, звучит забытая песня из «Золотого ключика», фильма 1939 года: «Далеко-далеко за морем / Стоит золотая стена…». Мучаешься и пытаешься вспомнить, откуда эта песня, откуда этот протяжный нежный мотив? И почему-то становится очень печально и жаль всех — и этих нелепых убийц, и девицу в пленке, да и нас всех немножко. И понимаешь, что все не то, чем кажется.

Сцена из эскиза «Случаи».
Фото — Виктор Дмитриев.
Еще страннее все было в эскизе «Случаи». Арсений Мещеряков сначала взял одни «случаи», перечитав которые, я, честно говоря, испугалась. Но что-то пошло не так, и он по дороге поменял одни случаи на другие, не менее странные для нормального театра. Ну, например, «Пакин и Ракукин», это где Ракукин фрякает, а Пакин велит не очень-то фрякать. Или «Что теперь продают в магазинах», где Тикакеев большим огурцом, выхваченным из кошелки, убивает Коратыгина, потому что вот какие большие огурцы продаются теперь в магазинах. Ну и так далее, один случай страшнее другого. Я ничего не стала перечитывать, потому что некогда уже было, «Немой официант» начинался, да и поняла, что все равно ничего не пойму, а нервы потрачу.
На сцене появились странные персонажи. Может быть, они появились от того, что внезапно над сценой взошла луна, а до нее ничего нельзя было разглядеть, потому что была страшно темная ночь. Но вот стало светлее, и начали происходить разные случаи. Они были все короткие, да ведь и жизнь коротка, а в те времена была совсем короткой. Был человек — и нету. Вышел — и не вернулся. Вошел — и исчез. Я пыталась что-то записать. Например: «Ольга Петровна пытается расколоть полено: „Тюк!“ Двое уводят ее». И поняла, что это ничего не объясняет. Кроме того, что ее уводят. Правда, у Хармса она стоит с неподвижно открытым ртом. Но все равно и это ничего не объясняет. Ну и пусть себе стоит, пока не увели.

Сцена из эскиза «Случаи».
Фото — Виктор Дмитриев.
Опомниться зрителям не давали. Случаи случались в бешеном ритме. Персонажи мгновенно менялись, потому что за минуту-две надо было накинуть новую «маску» и прожить свои несколько минут так, чтобы в эти мгновения все передалось нам. Изумление, ужас, оторопь, радость, тупость — все самые сильные чувства, выраженные через точно найденные маски, через чистоту пластического рисунка, через мгновенные реакции. Это был, с одной стороны, чистый постдраматический театр, где музыка, пластика, хореография создают новую реальность, и где текст, вроде бы, не важен. И где актер — с одной стороны, только краска, а с другой стороны, только он и объединяет в себе «все краски мира». А уж с третьей стороны, именно текст оказался и невероятно смешным, и совершенно неабсурдным.
Евгений Варава, Софья Васильева, Тимофей Мамлин, Андрей Сенько, Софья Степанова и Александр Шарафутдинов продемонстрировали невероятную способность к мгновенному преображению. И опять было и смешно, и жутковато. Это был какой-то масочный карнавал, в котором точно найденная форма в какой-то момент и становилась содержанием. И все снова оказалось не тем, чем казалось.

Сцена из эскиза «Смерть Тарелкина».
Фото — Виктор Дмитриев.
В третьем эскизе Филипп Гуревич решил тему оборотничества, двойничества, которые, конечно, есть в пьесе Сухово-Кобылина, сделать основным приемом. Всех персонажей комедии в его эскизе играли женщины. Таким образом режиссер решил посмотреть на пьесу их глазами, считая, что женщины, которые гораздо чаще подвергаются абьюзу, насилию, смогут увидеть конфликт под другим углом зрения. В сильно сокращенный текст комедии режиссер решил включить и документальный материал про некую работницу банка Анну Григорьеву, которая несколько лет совершала банковские махинации, спасая своего мужа-игрока, и в результате сама явилась в полицию с повинной. Для того, чтобы соединить два этих сюжета — историю Тарелкина, решившего прожить чужую жизнь, представившись умершим Копыловым, и историю современной банковской служащей, — лучше было бы пригласить драматурга. А пока сюжеты, конечно, не объединились. Более того, не очень понятен оказался сильно сокращенный сюжет про Тарелкина.
Но для пяти актрис в мужских ролях — а двоим из них (Лилии Мусиной и Яне Погореловой) пришлось играть и мужские, и женские роли, — это, конечно, был чистый и, я бы сказала, смелый эксперимент. Правда, никому не удалось посмотреть на конфликт между Варравиным (Лариса Чернобаева) и Тарелкиным (Наталья Пьянова) тем самым женским взглядом, которого хотел, но не сумел добиться режиссер. Но один образ бесспорно удался. Это Расплюев в исполнении Анастасии Белинской. И да, какой-то совершенно другой взгляд на этого довольно мерзкого персонажа актрисе удалось передать. Ее Расплюев вызывал безусловную симпатию и сочувствие. Правда, не уверена, что это необходимый акцент в истории с Тарелкиным.

Сцена из эскиза «Смерть Тарелкина».
Фото — Виктор Дмитриев.
Режиссерский марафон, повторяю, не был посвящен какой-то конкретной теме. Но тема проявилась сама по себе. Как это часто бывает в театре, драматургия дня показов сложилась каким-то непонятным, прямо мистическим образом: ВСЕ НЕ ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ. Значит, все было задумано верно.