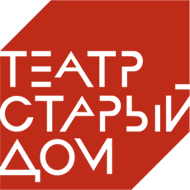Премьера
В ближайшее время премьеры не запланированы!
Вспомнить cебя
16 июня 2023Наталия Дмитриева Ведомости НСО
Когда стало известно, что режиссёр Антон Фёдоров создаёт в «Старом доме» спектакль «Котлован», новосибирское культурное пространство встрепенулось — «Платонова ставить невозможно!», «режиссёрская смелость или безрассудство?», «это самый сложный текст XX века!». Но вопреки устоявшемуся мнению, что «Котлован» Андрея Платонова — это про тщету человеческих усилий, зацикленную в определённом историческом контексте, «Котлован» Антона Фёдорова родился в форме метафизической практики, где каждый зритель возьмёт то, что ему сегодня нужно. Кантовское звёздное небо, поиски истины, «память себя», жизнь после смерти, «плесень и липовый мёд», исторические спирали — внутренний «компас» безошибочно подскажет зрителю траекторию его личного движения в пространстве Платонова–Фёдорова.
Главная сюжетная линия остаётся без изменений — мастеровые люди в тоске текущей повседневности копают котлован, чтобы заложить фундамент под здание светлого будущего. Но режиссёра увлекает экзистенциальная поэзия Платонова, а не исторически-социальный контекст повести, поэтому герои-мужики оказываются в некой пространственной точке — в лимбе или каком другом мире, — где стирается грань между живым и неживым. Здесь стены напоминают кабинетный чиновничий «модерн» конца XIX века, а природная гармония, зафиксированная в слайдах на заднем плане, распадается на неполный календарный цикл — в таких местах весна не обитает. Сценография спектакля нарочито кустарная — всё «от земли и сохи», как в бедном сельском театре, где бородатый монтировщик двигает багром планеты, а «песочница» котлована расползается по сцене искусственной землёй, высвобожденной мужиками-землекопами из-под половых досок. Режиссёр намеренно упрощает оформление сцены, чтобы подчеркнуть на контрасте трагичность и нелепость нашего бытования: живём мыслями о великом дворце будущего, а в настоящем — голые и босые роем «на автомате» котлован. Да, сегодня спим на земле — но дальше точно же лучше будет. Причём вот это утверждение про «лучшее, которое, конечно, впереди» зашито в нас, видимо, с рождения. Иногда оно и происходит, но мы его, как водится, не замечаем, ибо не фиксируемся прочно в моменте «здесь и сейчас».
В экране арьерсцены — слабосильный и задумчивый Вощев (Тимофей Мамлин) удивлённо «просыпается» в заводском цеху со сварочным аппаратом в руках: а где все? Искатель смыслов, у которого «тело без истины слабеет», выгружается в особый мир, где люди пытаются сохранить память о себе через образы прошлого, придумывая занятия и развлечения. Он сразу всё понимает про здешнее мироустройство (а может, без меня здесь всё обойдётся?) и готов уйти отсюда, но его «откапывает» артель землекопов: пойдём с нами, мы знаем, как здесь жить. Остроглазый бригадир и «смотрящий» Чиклин (Анатолий Григорьев), транслирующий директивы с «любопытством будущего наслаждения» активист Сафронов (Евгений Варава), рефлексирующий с размахом чеховского героя Козлов (Вадим Тихоненко) — люди как «эхо» определённых идей. Вощев соглашается на путешествие… и вот тут начинается удивительное сценическое «вдруг», которое рвёт у зрителя привычный платоновский шаблон.
/1-min.jpg?1686894690379)
Оказывается, мир платоновских землекопов может быть страшно смешным и по-мужски обаятельным — вопреки всему, и даже самой смерти. Когда ты пытаешься «вспомнить себя» на границе миров — тут все средства хороши: от примитивных фокусов товарища Пашкина (Андрей Сенько) до животворящего общего танца под хит немецкой группы Enigma. Людское в людях произрастает неистребимо — как сорняки в овраге. И потрясающий мужской актёрский ансамбль «Старого дома» тонко и пронзительно ведёт эту коллективную партию, провоцируя зрителя на эмоции. А что, так можно было? Смотреть Платонова и смеяться? «Некуда жить. Вот и думаешь в голову», — рассыпает бусины-истины Чиклин-Григорьев, и зрительный зал торопливо нанизывает их на свои внутренние нити — в пути пригодятся. Артисты работают на сцене не просто «персонажами», пропуская через себя метафизический ток Платонова, они ведут зрителя эмоциональными тропами психотерапевтического сеанса, подключая к особым состояниям. Как они это делают?! Система Станиславского точно на этот вопрос ответа не даст. Но факт уже подтверждённый — после спектакля хочется говорить цитатами из «Котлована». К примеру, реплика того же Чиклина — «Мало рук. Это измор» — отлично вписывается в любой современный профессиональный контекст. А цитата Козлова — «Кто меня любил? Хоть раз. Мне ведь грустно» — квинтэссенция отчаянного людского желания быть нужным кому-то. Но нужным кому-то Козлов так и не стал, поэтому, получив от инвалида Жвачева (Виталий Саянок) «мотивирующий удар» по лицу, переходит на общественные работы. В принципе, понятный такой архетип. За каждым активистом-горлопаном маячит неизбывной травмой нелюбовь. И таких бусин-истин по канве спектакля рассыпано немало — как хлебные крошки в известной сказке, указывающие на дорогу к Дому. Собирая их, можно вернуться к себе, «очнувшись» от сомнамбулического сна, в котором мы проводим большую часть жизни, действуя в автоматическом режиме. Наверное, помнить себя и любить другого — вот главная функция нашего существования, защищающая от экзистенциального страха перед жизнью/нежизнью. Инженер Прушевский (Юрий Кораблин) пишет письма придуманной возлюбленной Марии (в спектакле использованы письма Платонова к своей жене) — в финале они белыми птицами выпорхнут из почтового ящика, соединяющего миры. Да, они не долетели до адресата, но подарили людям надежду остаться людьми, оставив зазор между реальностями.
/2-min.jpg?1686894718059)
«Котлован» очень кинематографичен. На этот эффект работает партитура художника по свету Игоря Фомина, который с помощью особого «нелинейного освещения» расширяет герметичное пространство спектакля. Только что действие шло «там», а через минуту уже «здесь» — без перестановок и перемен декораций. Сказывается и киноопыт Антона Фёдорова, который стремительно переключает зрителя с одного состояния на другое. Зал ещё ловит жизнеутверждающий вайб коллективного танца землекопов, как в него прилетает острая стрела сцены прощания девочки-сиротки Насти с умирающей матерью. И вот здесь режиссёр всё-таки пожалел зрителя, не дав ему пережить сцену гибели «живой девочки», вызвав потоки неконтролируемых слёз. Девочка Настя приходит на сцену как анимированный персонаж, придуманный художником-мультипликатором Надей Гольдман, — флюидный образ светлого будущего, которого у героев «Котлована», к сожалению, нет.
К финалу спектакль выводит зрителя на новый уровень переживания-проживания, где девочка Настя превратится в россыпь звёздной пыли, а товарищ Пашкин отправит на верную смерть Сафронова и Козлова, запустив серию бессмысленных убийств и смертей. Людское в людях — неистребимо, око за око, глаз за глаз, крутится волчок, бесконечная лента Мёбиуса, всё по спирали и ни шагу назад. Но когда пустота усталой чернотой поглотит всё и всех, герой Анатолия Григорьева (нет, это уже не Чиклин — возможно, сам Платонов) устало скажет, что «мир этот должен погаснуть, глаза закрыться, чтобы видны были все другие миры», и развернёт над нашими головами рукотворное небо, расшитое звёздным гарусом. Сотни сияющих галактик закрутятся спиралевидными вихрями, обещая человеку бессмертие в вечном потоке. И что-то живое сожмётся спазмом в груди, даря ощущение «здесь и сейчас».
/3-min.jpg?1686894707098)
В статье упомянуты:
спектакли: